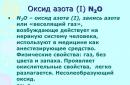Построен на основе анализа рассказа “Выбор” В.И. Дёгтева, раздел “Современная литература”.
Форма проведения урока – урок-дискуссия с элементами стилистического анализа произведения.
“Он рассказчик от Бога, взявший на себя смелость и ответственность
“безоглядно резко” писать об окружающих нас трагических событиях”
Юрий Бондарев
Тип занятия: урок литературы по современной отечественной прозе
Технология: проблемное обучение.
Модель: личностная.
Целеполагание:
Формирование умений анализа фрагментов художественного произведения
Формирование и расширение знаний об идейном смысле художественного произведения: раскрытие смысла названия произведения и постижение нравственных уроков, заключенных в содержании рассказа.
Развитие умений аргументации собственной точки зрения, умений обсуждения, освоение культуры общения.
Вызвать стремление гуманно относится к страдающему человеку, разделять чужую боль.
создать условия для анализа средств выразительности произведения, подготовка к ЕГЭ.
презентации:
1. «У каждого поколения своя война».
2. «Мой папа – воин-интернационалист».
3.« Простые и вечные истины в прозе В.И. Дёгтева “Выбор”.
Образовательный аспект – познакомить ребят с творчеством В.И. Дёгтева с целью анализа художественных средств рассказа Дёгтева “Выбор”.
Развивающийся аспект – развивать навыки чтения текста с извлечением конкретной информации, развивать ассоциативно-образное мышление, память.
Воспитательный аспект – создать условие для развития интереса к современной литературе, осмысление поступков главного героя, с вычленением вечных ценностей человечества.
ХОД УРОКА
I. Организационный момент урока.
1. Презентация «У каждого поколения своя война».
Учитель:
У каждого поколения своя война. У наших дедов – Великая Отечественная, у ваших отцов – Афганская, у современного поколения – это Чечня, Дагестан. Каждый день Человек стоит перед выбором, как ему поступить в той или иной ситуации. Молодым людям предстоит выбрать: идти им в армию, чтобы защитить свою Родину, родных и близких или «пусть другие защищают, а мне и на гражданке неплохо». Такой выбор встанет у большинства присутствующих. Много лет тому назад у отца вашей одноклассницы Лейсан был «выбор» идти в армию или «откосить» - и он выбрал службу, и попал на ту самую войну, которую сейчас мы называем Афганской.
2. Презентация «Мой папа – воин-интернационалист».
Учитель:
3. Презентация « Простые и вечные истины в прозе В.И. Дёгтева “Выбор”.
II. Основная часть урока.
Слайд 1.
Хочу продолжить знакомство с творчеством уже известного писателя Вячеслава Дёгтева. Многие писатели называют Вячеслава Ивановича Дёгтева русским Джэком Лондоном, королем рассказа.
Слайд 2.
Вячеслав Иванович Дёгтев родился в 1959г. На хуторе Карасилов Воронежской области. Офицер запаса, бывший летчик, летал на Л-29 и МИГ-17. В 1991 году окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор 13 книг прозы. Его рассказы опубликованы в 140 газетах и журналах, как в России, так и за рубежом. Лауреат международной Платоновской премии “Умное сердце”, литературной премии имени Александра Невского “России верные сыны”, он стал и победителем популярной премии “Национальный бестселлер”.
Слайд 3-4.
*На вопрос интервьюера «Почему в Вашей прозе основной является тема войны?» Дёгтев ответил: «Подсказывает темы, настраивает на размышления сама жизнь. Еще в 1995г. Было ясно: раз ввязались в войну на Северном Кавказе, надо победить. В Чечне выросло целое поколение молодых людей, не умеющих зарабатывать иначе, чем стрельбой. Произошла подмена ценностей: работать – непрестижно, убивать за деньги – почва для агрессивной идеологии ваххабизма».
*«На чем же стоять дальше? Раз выпало родиться в России, надо бороться до конца. Верю в высшие силы, которые не дадут России пропасть. Жизнь должна быть попыткой преобразования мира вокруг себя в соответствии с убеждениями. Даже если мир живет по другим законам и многие сочтут это чудачеством», - пишет В.Дёгтев.
Слайд 5-8.
Мы с вами уже познакомились с рассказом В.Дёгтева «Четыре жизни». У него много рассказов, которые будут вам интересны. Его рассказы – это азбука выживания русского человека в нынешней России. «Увы, история людей ничему не учит, и безумие границ не имеет»,- говорит герой рассказа В.Дёгтева «Четыре жизни». «Он вставил в автомат новый тяжелый, набитый патронами магазин, где в каждой пуле скалилась смерть, а пустой между тем, гремя как коробка, поскользил по камням вниз». «Его захватят уже мертвым. При обыске обнаружат на груди монашеский крест-парамад, а между лопатками,ладанку-мощевик… После чего его разрубят на четыре части – крестообразно – и предложат по рации «диким гусям» менять каждую часть на одного пленного мусульманина». В.Дёгтев «Четыре жизни».
*Какой выбор был у героя этого рассказ? (ответы учащихся).
«Все мы знаем, что рано или поздно умрем, но все равно не верим в собственную кончину, а потому всякая религия есть форма подготовки к смерти, а путь воина – есть путь преодоления страха смерти», - пишет Дёгтев в рассказе- Реквием «Последний парад».
Слайд 9.
Сегодня мы познакомимся с новым рассказом Дегтева «Выбор».
Не читая рассказ, не зная ещё его сюжет, подумайте, о чем может быть рассказ? (Ответы учащихся)
Кто и что выбирает? (ответы учащихся)
Читаю 1 часть рассказа.
Вопросы:
Какой композиционный прием лежит в построении «Выбора»? (антитеза – противопоставление понятий, мыслей, образов).
Кто из писателей обращается к приему антитеза? (Л.Толстой «Война и мир», Ф.Достоевский «Преступление и наказание»).
Вопросы: обратим внимание на внешность героев.
- Каким вы представляете ЕГО? ответы
-Каким вы представляете ЕЁ?
- Какие глаза у него?
-Какие глаза у неё?
Читаю 2 часть. Слайд 11. Находим. У него глаза были серые, стального, немного зеленоватого цвета, у неё – карие, выпуклые, как у породистой, преданной собаки, а в последнее время глаза у нее сделались отчего-то золотистые и с янтарным оттенком .)
Отчего у героя рассказа «…в последнее время глаза у нее сделались отчего-то золотистые и с янтарным оттенком»? ответы
Слайд 12.
В этой части встречаются такие словосочетания, как «дикие гуси», «псы войны». Почему они записаны в кавычках? (Это цитата, устойчивое сочетание)
Что они значат? (Так называют наемных убийц, эти названия можно встретить в других художественных произведениях XIX–XX вв .)
Как называется такой прием в литературе, когда автор умышленно или невольно использует образ, мотив, выражение из произведения какого-либо автора? (реминисценция)
Слайд 13.
Литературная справка.
Реминисценция – присутствующие в писательских текстах отсылки к предшествующим литературным фактам: отдельным произведениям, образам, сюжетам. Это образы литературы в литературе. Реминисценция в одних случаях вводится в текст автором сознательно и целеустремленно, либо они появляются независимо от намерений и воли автора.
У В.Шекспира «Юлий Цезарь», когда главный персонаж пьесы обращается к подданным, призывая: «Сейте смерть! Спускайте псов войны!» Драматург «псами войны» называет наемников, варваров, не останавливающих ни перед чем ради наживы.
Рассказ посвящается Юрию Бондареву - писателю –фронтовику. Ему удалось воссоздать дьявольский облик войны.
- Какие произведения Юрия Бондарева вы читали? (“Горячий снег”, “Берег”, “ Тишина”).
Это поколение в литературе назвали «потерянное поколение».
Слайд 14. Культурологический комментарий понятия
«потерянное поколение»
Огромное влияние на европейскую культурную традицию оказала Первая мировая война – доселе беспрецедентная в цивилизованном мире по своим масштабам. Эта война словно бы разрушила над головой миллионов людей кажущийся незыблемый ценностный свод: в первую очередь это коснулось молодого поколения интеллигенции. Это было поколение, брошенное на четыре года из университетских аудиторий в окопы. Люди, воспитанные на богатейших гуманистических культурных традициях, должны были пережить ломку взглядов, убеждений и на 4 года превратится в нерассуждающие и абсолютно бесправные автоматы, лишенные права распоряжаться собственной жизнью. Они были обязаны по приказу убивать, по приказу умирать.
Подумайте как могут развиваться отношения между героями?
Кем работал он до войны?
Каково его отношение к женщинам?
Слайд15.
Читаю 3 часть.
По аналогии с «потерянным поколением» можно судить, что главный герой принадлежит к “поколению растерянных людей” (лишь на какое-то время потерявшие ориентир в нашей жизни).
Кого вы отнесете к этому поколению, поколению “растерянных людей”? (Гранатометчик Роман .)
Почему он пошел на войну? От хорошей жизни на войну не вербуются.
(Не сложилась семейная жизнь, жена ушла к другому, забрала квартиру, которую заработал он. Оставалось одно – выйти, взять бутылку. Конечно, от полного отчаяния, безысходности существования ).
Он сделал свой ВЫБОР. Поэтому он пошел на войну, в мирной жизни он погиб бы.
Какие художественные приемы использует автор, чтобы рассказать о жизни гранатометчика до войны? (Основной прием – многоточие. “Пил, пока деньги были... ”.)
Когда используется этот прием? (Умолчание – фигура речи, предоставляющая слушателю или читателю возможность догадаться, о чем могла бы пойти речь во внезапно прерванном высказывании .)
Кроме многоточия, какие изобразительно-выразительные средства языка говорят о полной “растерянности” главного героя? (Междометие “Ах!”, метафоры “тоскливо и горестно”, синонимия “квартира в которой он жил, называлась “конурой”. Обозленный на жизнь, он выбирает войну, потому что в мирной жизни он погиб бы быстрее. “И ноги как-то сами собой принесли его к казачьему атаману .)
- Что стало с главным героем на войне? (Ответы учащихся)
Слайд 16. Читаю 4 часть.
- Почему на войне его стали называть “псом войны”?
(Был очень жестоким, у него уже не дрожали руки, “звери” не снились,
это был человек-автомат, он даже своих убивает
.)
- Ваше отношение к тому, что он убил труса и был причастен к смерти московского журналюги? (Он не имел права лишать людей жизни, только суд может покарать человека. Это говорит о том, что он стал “зверем”, он не лучше тех, кого убивал
.)
- Почему в начале повествования нет собственных имен, а только местоимения и существительные собственного значения «гранатометчик» , «работница полевой кухни».
И лишь потом мы узнаем их имена? (Писатель использует прием обобщения , стремится раскрыть типическое в современной жизни).
Когда могут появиться имена героев? (с развитием у них отношений)
- Предположите, как развиваются у них отношения? (ответы учащихся)
Слайд 17. Читаю 5 часть.
Почему он так спешил в последнее время в полевую пекарню? (Ему понравилась Оксана, которая пекла хлеб.)
Почему ему нравилась эта девушка? (Строго себя держала, гордая, красивая, а как выплясывала перед солдатами, гранатометчик и думать о ней не мог, таких, как он, были сотни. Поэтому он даже и не пытался... “Да, она была настоящая королева!” .)
Почему он не пытался ухаживать за Оксаной? (Таких, как он были сотни)
Могли ли их отношения начать развиваться? (Ответы)
Что могло произойти, что их отношения начали развиваться? (Ответы)
Слайд 18-19. Читаю 6 часть.
- Именно здесь рассказ делится на 2 части: жизнь до и после ранения Оксаны.
Слайд 20. Читаю 7 часть.
И вот сейчас ее внесли на носилках двое дюжих, измазанных глиной десантников. “Звери” обстреляли хлеборезку и получили дармовой хлеб. И только сейчас, увидев раненную Оксану, Роман заговорил с ней.
Как вы относитесь к поступку Романа? Что это, минутная слабость или любовь? (Конечно, любовь. Он понимал, что ждет Оксану в будущем, только он может ей помочь .)
Легко ли ему было сделать предложение? (“Нет, – он произнес хрипло, – выходи за меня замуж”, словно груз сбросил.. )
Какими стилистическими фигурами, художественно-выразительными средствами пользуется автор, чтобы передать эмоциональное напряжение героя? (Лексический повтор .)
Да, лексический повтор отличается очень мощным эмоциональным зарядом. Путем повторения слова в тексте выделяется ключевое понятие. Найдите лексический повтор. (Сапог...Сапог ! Боюсь, что завтра...завтра я не осмелюсь. Да, радость! Радость золотая, неподдельная ).
Следующая стилистическая фигура. (Парцелляция .)
Что она обозначает? (Выделение из предложения какого-либо члена предложения – чаще второстепенного, оформление его в виде самостоятельного предложения. В тексте “Ты только не говори. Береги силы ”.)
Найдите другие выразительные средства речи. (Риторическое обращение характерно для этого рассказа. Оно придает сердечность, теплоту речи: “Слушай, будь другом ...”, “Ах, как я счастлива, Ромка! ”, “Знаешь что... Оксана, дорогая?”, “Жмет, вражина , мочи нет”.
Риторический вопрос усиливает эмоциональность высказывания, его выразительность. “Что? Замуж:”, “Ведь правда, все у нас с тобой будет хорошо?”, “ Мы еще потанцуем. Ведь правда, Рома? ”.)
Обсуждение финала рассказа.
- Почему плачет молоденькая медсестра? (драматическое звучание плач сестры, горький запах тополевых поленьев )
-Финал рассказа «открытый», читателю надо поразмыслить
-Ответьте, пожалуйста, на вопрос: какое “лицо” у войны? (война несет смерть, жестоко, когда гибнут мирные люди ).
Какова идея рассказа? (Любовь совершает чудеса. Роман исцелился, стаовится человеком , снова начинает верить людям)
Почему в конце рассказа, мы уже не можем назвать его «псом войны»? (в нем побеждает человеческое)
-Вернемся к началу рассказа «Выбор» отглагола «выбирать – отобрать для себя нужное, искать, определиться». Вячеслав Дёгтев очень часто использовал это слово – оно становится своеобразным лейтмотивом его творчества.
-Какие простым человеческие истины затрагивает Дёгтев в своем рассказе?
Любовь
ненависть к войне;
самоопределение личности;
поиск личности и веры в человека.
Учитель: В журнале “Москва”, рассказывая о своем творчестве, Вячеслав Дёгтев пишет: “В последнее время в своих рассказах я ухожу от трагических финалов. Русский человек верит в чудо, и это нечто большее, чем просто оптимизм. Если Россия – подножие Господа, то Бог не оставит Россию”.
Подводя итог всему выше сказанному, я бы отметила, как хочется и нам в это верить!
Слайд 22.
Домашнее задание.
I . Продолжить рассказ «Выбор» или
II . Написать рецензию на рассказы В.И.Дегтева
1 вариант «Псы войны»,
2 вариант «Последний парад»,
3 вариант «Четыре жизни».
ДЕГТЕВ В. Рассказы // Роман-газета. - 1996.-Ns 7.
ДЕГТЕВ В. Падающие звезды (Рассказы) // Наш современник. - 2000. - № 7.
ДЕГТЕВ В. Азбука выживания // Роман-газета. - 2003. - № 22.
ДЕГТЕВ В. Фараон и Нефертити // Север. - 2002. - № 7-8.
ДЕГТЕВ В. Выбор // Слово. - 2003. - № 3.
ДЕГТЕВ В. Профиль ветра // Наш современник. - 2003. - № 7.
ДЕГТЕВ В. Рассказы // Наш современник. - 2002. - № 9.
ДЕГТЕВ В. Русская душа // Роман-газета. - 2001. -№ 15.
ДЕГТЕВ В. Белая невеста // Наш современник. -2004. - № 3.
ДЕГТЕВ В. Рассказы // Молодая гвардия. - 2001,-№4.
ДЕГТЕВ В. Рассказы // Молодая гвардия. - 2002. - № 4.
ДЕГТЕВ В. Рассказы // Молодая гвардия. - 2003. - № 8.
ДЕГТЕВ В. Последний парад (реквием) // Молодая гвардия. - 2005. - № 4.
Избранное / В.И. Дегтев и др. - М.: Три Л, 2001.
ДЕГТЕВ В.И. Русская душа: Рассказы. - М.: ИТРК, 2003. - Серия «Россия молодая»!
РАБИНОВИЧ B.C. Западная литература. История духовных исканий: Учеб. пособие / В.С.Рабинович. - М.: Интерпракс, 1994. - С. 221.
Шли мы тогда из Владивостока в порт Ванино. Рейс был последний в сезоне. Шансов успеть до ледостава почти не оставалось. Из Ванино сообщили, что у них на рейде уже появлялись льдины. Я недоумевал: зачем послали так поздно? Однако надеялся, что зима припозднится и удастся проскочить. Тихая и теплая погода в Японском море давала основания для таких надежд.
На борту у меня был «особый груз» - осужденные священники, настоятели монастырей, высшие иерархи. Надо сказать, однажды мне уже приходилось переплавлять заключенных - страшно вспомнить… В этот раз - совсем другое дело. Ни тебе голодовок, ни поножовщины, ни шума, ни крика. Охранники маялись от безделья. Они даже стали их выпускать на палубу гулять, не боясь, что кто–нибудь из осужденных бросится за борт. Ведь самоубийство по христианским понятиям - самый тяжкий грех. На прогулках святые отцы чинно ходили по кругу, худые, прямые, в черных длинных одеждах, ходили и молчали или тихо переговаривались. Странно, но, кажется, никто из них даже морской болезнью не страдал, в отличие от охранников, всех этих мордастых увальней, которые, чуть только поднимается небольшая зыбь, то и дело высовывали рожи за борт…
И был среди монахов мальчик Алеша. Послушник, лет двенадцати от роду. Когда в носовом трюме устраивалось моление, часто можно было слышать его голос. Алеша пел чистейшим альтом, пел звонко, сильно и с глубокой верой, так что даже грубая обшивка отзывалась ему. У Алеши была собака Пушок. Рыжеватый такой песик. Собака была ученая, понимала все, что Алеша говорил. Скажет мальчик, бывало: «Пушок, стой!» - и пес стоит на задних лапах, как столбик; прикажет: «Ползи!» - и пес ползет, высунув от усердия язык, вызывая у отцов смиренные улыбки, а охрану приводя в восторг; хлопнет в ладоши: «Голос!» - и верный друг лает заливисто и с готовностью: «Аф! Аф!». Все заключенные любили Алешу и его кобелька. Полюбили его и матросы, даже охрана улыбалась при виде этой парочки. Пушок понимал не только слова хозяина, он мог читать даже его мысли: стоило Алеше посмотреть в преданные глаза, и пес уже бежал выполнять то, о чем мальчик подумал.
Наш замполит, Яков Наумыч Минкин, в прошлом циркач, восхищался Пушком: уникальная собака, с удивительными способностями, цены ей нет. Пытался прикармливать пса, но тот почему–то к нему не шел и корма не брал. Однажды на прогулке наш старпом подарил Алеше свой старый свитер. С каждым днем заметно холодало. Мальчик зяб в своей вытертой ряске. Алеша только посмотрел Пушку в глаза - и пес, подойдя к старпому, лизнул его в руку. Старик так растрогался.
Возвращаясь к хозяину, пес ни с того ни с сего облаял Якова Наумыча, спешившего куда–то. Чуть было не укусил. Мне непонятно было такое поведение собаки. Однако на другой день все стало ясно. Я зашел к замполиту в каюту неожиданно, кажется, без стука, и увидел в его руках массивный серебряный крест. Яков им любовался… Крест был прикреплен колечком к жетону. Жетон был увенчан короной, на нем - зеленое поле, а на поле - серебряный олень с ветвистыми рогами, пронзенный серебряной стрелой. Яков перехватил мой взгляд. «А наш–то послушник, оказывается, князь!» - сказал он как ни в чем ни бывало и кивнул на крест с гербом.
Вот так мы и шли пять суток.
И вот на шестой день плавания Яков спросил координаты. Я сказал. Он озадаченно пробурчал что–то и спустился в носовой трюм. Вскоре вернулся с Пушком под мышкой. Пушок скулил. Алеша, слышно было, плакал. Кто–то из монахов успокаивал его. Замполит запер пса в своей каюте, и я расслышал, как он резко одернул старпома, попытавшегося было его усовестить: «Не твое дело!» После чего послонялся какое–то время по палубе, нервно пожимая кулаки, потом опять сходил в свою каюту и вернулся с черным пакетом в сургучных печатях. Вновь спросил у меня координаты. Я сказал: такие–то. Тогда он торжественно вручил мне пакет. Я сломал печати. В пакете был приказ.
Вы слышите - мне приказывалось: остановить машину, открыть кингстоны и затопить пароход вместе с «грузом». Команду и охрану снимет встречный эсминец. Я опешил. И с минуту ничего не мог сказать. Может, ошибка? Но тут подошел радист и передал радиограмму с эсминца «Беспощадный боец революции Лев Троцкий» - корабль уже входит в наш квадрат.
Что я мог поделать - приказ есть приказ! Помня о долге капитана, я спустился в каюту, умылся, переоделся во все чистое, облачился в парадный китель, как требует того морская традиция. Внутри у меня было как на покинутой площади… Долго не выходил из каюты, находя себе всякие мелкие заботы, и все время чувствовал, как из зеркала на меня смотрело бескровное, чужое лицо.
Когда поднялся на мостик, прямо по курсу увидел дымы эсминца. Собрал команду и объявил приказ. Повел взглядом: кто?.. Моряки молчали, потупив глаза, а Минкин неловко разводил руками. Во мне что–то натянулось: все, все они могут отказаться, все - кроме меня!..
В таком случае я сам!..
Спустился в машинное отделение - машина уже стояла, и лишь слышно было, как она остывает, потрескивая, - и со звоном в затылке отдраил кингстоны. Под ноги хлынула зеленая, по–зимнему густая вода, промочила ботинки, но холода я не почувствовал.
Поднявшись на палубу - железо прогибалось, - увидел растерянного замполита, тот бегал, заглядывал под снасти и звал:
Пушок! Пушок!
В ответ - ни звука. Из машинного отделения был слышен гул бурлящей воды. Я торжественно шел по палубе, весь в белом, видел себя самого со стороны и остро, как бывает во сне, осознавал смертную важность момента. Был доволен тем, как держался, казался себе суровым и хладнокровным. Увы, не о людях, запертых в трюмах, думал, а о том, как выгляжу в этот роковой миг. И сознание, что поступаю по–мужски, как в романах - выполняю ужасный приказ, но вместе с тем щепетильно и тщательно соблюдаю долг капитана и моряка, - наполняло сердце трепетом и гордостью. А еще в голове тяжело перекатывалось, что событие это - воспоминание на всю жизнь, и немного жалел, что на судне нет фотоаппарата…
Из трюмов донеслось:
Вода! Спасите! Тонем!
И тут мощный бас перекрыл крики и плач:
Помолимся, братия! Простим им, не ведают, что творят. Свя–тый Бо–о–же, Свя–тый Кре–епкий, Свя–тый Бес–с–смерт–ный, поми–и–илуй нас! - запел он торжественно и громко.
За ним подхватил еще один, потом другой, третий. Тюрьма превратилась в храм. Хор звучал так мошно и так слаженно, что дрожала, вибрировала палуба. Всю свою веру вложили монахи в последнюю молитву. Они молились за нас, безбожников, в железном своем храме. А я попирал этот храм ногами…
В баркас спускался последним. Наверное, сотня крыс прыгнула вместе со мной. Ни старпом, ни матрос, стоявшие на краю баркаса, не подали мне руки. А какие глаза были у моряков!.. И только Яков Наумыч рыскал своими глазами–маслинами по палубе, звал собаку:
Пушок! Пушок! Чтоб тебя!..
Пес не отзывался. А пароход между тем погружался. Уже осела корма и почти затихли в кормовом трюме голоса. Когда с парохода на баркас прыгнула последняя крыса, - она попала прямо на меня, на мой белый китель, - я дал знак отваливать. Громко сказал: «Простите нас!» - и отдал честь. И опять нравился самому себе в ту минуту…
Подождите! - закричал замполит. - еще чуть–чуть. Сейчас он прибежит. Ах, ну и глупый же пес!..
Подождали. Пес не шел. Пароход опускался. Уже прямо на глазах. И слабели, смолкали один за другим голоса монахов, и только в носовом трюме звенел, заливался голос Алеши. Тонкий, пронзительный, он звучал звонко и чисто, серебряным колокольчиком - он звенит и сейчас в моих ушах!
О мне не рыдайте, плача, бо ничтоже начинах достойное… А монахи вторили ему:
Душе моя, душе моя, восстань!..
Но все слабее вторили и слабее. А пароход оседал в воду и оседал… Ждать больше было уже опасно. Мы отвалили.
И вот тогда–то на накренившейся палубе и появился пес. Он постоял, посмотрел на нас, потом устало подошел к люку, где асе еще звучал голос Алеши; скорбно, с подвизгом, взлаял и лег на железо.
Пароход погрузился. И в мире словно лопнула струна… Все завороженно смотрели на огромную бурляшую воронку, кто–то из матросов громко икал, старпом еле слышно бормотал: «Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная…» - а я тайком оттирал, оттирал с белоснежного рукава жидкий крысиный помет и никак не мог его оттереть…
Вот вода сомкнулась. Ушли в пучину тысяча три брата, послушник Алеша и верный Пушок…
ВОПРОСЫ
1. Почему не боялись выпускать заключенных гулять на палубу?
2. Как вы считаете, соответствует ли поступок капитана моральным нормам? Как бы вы поступили на его месте?
3. Подробно опишите, как вели себя заключенные во время погружения парохода. Как вы думаете, если бы на месте заключенных оказался ваш класс, смогли бы ребята вести себя достойно?
4. Пожалуйста, всесторонне проанализируйте самооценку капитана: «Не о людях, запертых в трюмах, думал, а о том, как выгляжу в этот роковой миг».
5. Собака могла спастись, если бы послушала замполита, но она осталась у люка, где все еще звучал голос Алеши. Можно ли сказать, что она совершила подвиг? Смогли бы вы в подобной ситуации оставить друга?
Какой смысл записывать на бумаге правила общественного поведения, если мы знаем, что жадность, трусость, дурной характер и самомнение помешают нам эти правила выполнить?
Все эти размышления о морали останутся просто «солнечным зайчиком», пока мы не поймем: ничто, кроме мужества и бескорыстия каждого человека, не заставит какую бы то ни было общественную систему работать как надо.
Конечно, можно избавить граждан от тех или иных нарушителей общественного порядка, скажем от взяточников и хулиганов; но пока остаются потенциальные взяточники и хулиганы, сохраняется и угроза, что они протопчут себе новые дорожки, чтобы продолжить старые дела. Нельзя сделать человека хорошим лишь с помощью закона. Можно сколь угодно увеличивать число полицейских, улучшать их оснащение, расширять сеть тюрем, то есть репрессивный аппарат, но общество от этого лучше не станет. Вот почему наведение порядка внутри себя должно стать обычной нормой для каждого члена общества.
И раз уж речь пошла о хороших людях, уместно вспомнить стихотворение Н. Некрасова:
Каждый год, как наступит весна,
И зальются поляны водою, -
Вся деревня идет на погост,
На могилу - под липой густою.
С уваженьем колени народ
Перед этой могилой склоняет;
Шлют молитву простые сердца
За того, кто в земле почивает.
В ней схоронен простой мужичок,
Целый век боронивший, пахавший,
Но высокой души человек,
Ни корысти, ни злобы не знавший.
Был он другом всех бедных людей,
И, за каждого сердцем страдая,
Целый век прожил он для других,
Для других сам себя забывая.
Разлилася широко река,
Все, что ветхо, водой подмывая…
Он погиб в золотую весну,
Погибавших малюток спасая.
С той поры, каждый год по весне,
Как зальются поляны водою,
Вся деревня идет на погост,
На могилу - под липой густою.
Благородный поступок, точнее подвиг, всколыхнул все общество, то есть деревню. И это общество не забыло своего героя: стихотворение так и называется - «Добрая память».
Итак, нравственное общество состоит из нравственных людей. Можно в школе каждый день долбить, что такое хорошо и что такое плохо, но без нравственного преобразования самого человека, без наведения настоящего порядка внутри себя нравственного общества не построить.
Поведение человека и, следовательно, его пути наведения порядка внутри себя зависят и от столь отдаленных, казалось бы, «материй», как представление человека о Вселенной. Материал, рассматриваемый в следующем разделе, может оказаться очень полезным для аргументации этого тезиса.
ВОПРОСЫ
1. Почему нельзя сделать человека добрым и справедливым лишь с помощью закона?
2. Опишите нравственный портрет героя стихотворения Н. Некрасова, используя характеристики самого поэта.
КРЕСТ
Я шел из Владивостока в порт Ванино. Рейс был последний в сезоне. Шансов успеть до ледостава почти не оставалось. Из Ванина сообщали, что у них на рейде раз-другой уже появлялись льдины. Я недоумевал: зачем послали так поздно? Однако надеялся, что зима припозднится и удастся проскочить или еще как-то повезет. Тихая и теплая погода в Японском море давала основания для таких надежд.
На борту у меня был «особый груз» - осужденные священнослужители, высшие иерархи духовенства: епископы, экзархи, настоятели монастырей. Надо сказать, однажды мне уже приходилось переправлять подобный «груз» - страшно вспомнить... В этот раз - совсем другое дело. Ни тебе голодовок, ни поножовщины, ни шума, ни крика. Охранники мучились от скуки. Они даже гулять попов стали выпускать на палубу, не боясь, что кто-нибудь из осуж-денных бросится за борт. Ведь самоубийство у верующего - самый тяжкий грех. На прогулках святые отцы чинно ходили по кругу, худые, прямые, в черных длинных одеждах, ходили и молчали или переговаривались полушепотом. Странно, но, кажется, никто из них даже морской болезнью не страдал, в отличие от охранников, всех этих мордастых увальней, которые, чуть только поднимется небольшая зыбь, то и дело высовывали рожи за борт...
И был среди монахов мальчик Алеша. Послушник, лет двенадцати от роду. Когда в носовом трюме устраивалось моленье, часто можно было слышать его голос. Алеша пел чистейшим альтом, пел звонко, сильно, и грубая железная обшивка отзывалась ему. С Алешей делила долю собака Пушок. Рыжеватый такой песик. Собака была ученая, понимала все, что Алеша говорил. Скажет мальчик, бывало: «Пушок, стой!» - и пес стоит на задних лапах, замерев как столбик, прикажет: «Ползти!» - и пес ползет, высунув от усердия язык, вызывая у попов смиренные улыбки, а охрану приводя в восторг, хлопнет в ладоши: «Голос!» - и верный друг лает заливисто и с готовностью: «Аф! Аф!». Все заключенные любили Алешу и его кобелька; полюбили вскоре и мои матросы; даже охрана улыбалась при виде этой парочки. Пушок понимал не только слова хозяина, он мог читать даже его мысли: стоило Алеше посмотреть в преданные глаза, и пес уже бежал выполнять то, о чем мальчик подумал.
Наш комиссар Яков Наумыч Бень, в прошлом циркач, восхищался Пушком: уникальная собака, цокал языком, с удивительными способностями, ей цены нет. Пытался прикармливать пса, но тот почему-то к нему не шел и корма не брал. Однажды на прогулке старпом подарил Алеше свой старый свитер. С каждым днем заметно холодало. Курс был норд-норд-ост. Мальчик зяб в своих вытертых ряске и скуфейке... Алеша только посмотрел Пушку в глаза,- и пес, подойдя к старпому, лизнул его в руку. Старик так растрогался... Возвращаясь к хозяину, пес ни с того ни с сего облаял Якова Наумыча, спешащего куда-то. Чуть было не укусил.
Мне непонятно было такое поведение собаки. Однако на другой день все стало ясно. Я зашел к комиссару,- вошел в каюту неожиданно, кажется, без стука,- и увидел в его руках массивный серебряный крест. Яков им любовался... Крест был прикреплен колечком к жетону. Короной увенчан жетон, на нем - зеленое поле, а на поле - ветвистой рогатый серебряный олень, пронзенный серебряной стрелой. Яков перехватил мой взгляд. «А наш-то послушник, оказывается,- князь!» - сказал он как ни в чем не бывало и кивнул на крест с гербом...
Вот так мы и шли, батюшка, пятеро суток.
И вот на шестой день плавания Яков спросил координаты. Я сказал. Он озадаченно пробурчал что-то и спустился в носовой трюм. Вскоре вернулся с Пушком под мышкой. Пушок скулил. Алеша, слышно было, плакал. Кто-то из монахов утешал его. Комиссар запер пса в своей каюте, и я расслышал, как он спросил о координатах штурмана и резко одернул старпома, попытавшегося было его усовестить: «Не твое дело!». После чего послонялся какое-то время по палубе, нервно пожимая кулаки, потом опять сходил в свою каюту и вернулся с черным пакетом в сургучных печатях. Вновь спросил у меня координаты. Я сказал: такие-то. Тогда он торжественно вручил мне пакет. Я сломал печати. В пакете был приказ.
Ты слышишь, батюшка,- мне приказывал о с ь: остановить машину, открыть кингстоны и затопить пароход вместе с «грузом». Команду и охрану снимет встречный эсминец. Я опешил. И с минуту ничего не мог сказать. Может, ошибка?.. Но тут подошел радист и передал радиограмму с эсминца: «Беспощадный боец революции Лев Троцкий» - корабль уже входил в наш квадрат.
Что я мог поделать - приказ есть приказ! Помня о морском долге и долге капитана, я спустился в каюту, умылся, переоделся во все чистое, облачился в парадный китель, как требует того морская традиция. Внутри у меня было - как на покинутой площади... Долго не выходил из каюты, находя себе всякие мелкие заботы, и все время чувствовал, как из зеркала на меня смотрело бескровное, чужое лицо. Когда поднялся на мостик, прямо по курсу увидел дымы эсминца. Собрал команду и объявил приказ. Повел взглядом: кто?.. Моряки молчали, потупив глаза, а Бень неловко разводил руками. Во мне что-то натянулось: все, все они могут отказаться, все - кроме меня!..
- В таком случае я - сам!..
Спустился в машинное отделение - машина уже стояла, и лишь слышно было, как она остывает, потрескивая,- и, со звоном в затылке, отдраил заглушки. Под ноги хлынула зеленая, по-зимнему густая вода, промочила ботинки,- холода я не почувствовал.
Поднявшись на палубу - железо прогибалось,- увидел растерянного комиссара, тот бегал, заглядывал под снасти и звал:
- Пушок! Пушок!
В ответ - ни звука. Из машинного отделения был слышен гул бурлящей воды. Я торжественно шел по палубе, весь в белом, и видел себя самого со стороны, и остро, как бывает во сне, осознавал смертную важность момента. Был доволен тем, как держался, казался себе суровым и хладнокровным. Увы, не о людях, запертых в трюмах, думал, а старался думать о том, как выгляжу в этот роковой миг. И сознание, что поступаю по-мужски, как в романах - выполняю ужасный приказ, но вместе с тем щепетильно и тщательно соблюдаю долг капитана и моряка,- наполняло сердце священным трепетом и гордостью. А еще в голове тяжело перекатывалось, что событие это - воспоминание на всю жизнь, и немного жалел, что на судне нет фотографического аппарата... О-о-о, батюшка!
Из трюмов понеслось:
- Вода! Спасите! Тонем!
И тут мощный бас перекрыл крики и плач. Он призвал монахов к покаянию. А потом воззвал:
- В последний этот смертный час сплотимся, братия, в молитве. Не склоним главы пред антихристом и его слугами. Примем смерть как искупление и помолимся за наших мучителей, ибо слепы они и глухи. Свя-тый Бо-о-оже, Свя-тый Кре-е-епкий, Свя-тый Бес-с-мерт-ный, поми-и-илуй нас! - запел он торжественно и громко.
За ним подхватил еще один, потом другой, третий, и вот уже трюмы загудели у меня под ногами песнопений. Тюрьма превратилась в храм. Сливаюсь, голоса звучали так мощно и так слаженно, что аж дрожала, вибрировала палуба. Всю страсть и любовь к жизни, всю веру в Высшую Справедливость вложили монахи в последний свой псалом. Они молились и за нас, безбожников, в железном своем храме. А я попирал этот храм ногами...
В баркас спускался последним. Наверное, сотня крыс прыгнула вместе со мной. Ни старпом, ни матрос, стоящие на краю баркаса, не подали мне руки. А какие глаза были у моряков!.. И только Яков Наумыч рыскал своими черными маслинами по палубе, звал собаку:
- Пушок! Пушок! Черт бы тебя взял!..
Не отзывался пес. А пароход между тем погружался. Уже осела корма и почти затихли в кормовом трюме голоса. Когда с парохода на баркас прыгнула последняя крыса - она попала прямо на меня, на белый мой китель,- я дал знак отваливать. Громко сказал: «Простите нас!» - и отдал честь. И опять нравился самому себе в ту минуту...
- Подождите, - закричал комиссар.- Еще чуть-чуть. Сейчас он прибежит. Ах, ну и глупый же пес!..
Подождали. Пес не шел. Пароход опускался. Уже прямо на глазах. И слабели, смолкали, один за другим, голоса монахов, и только в носовом трюме звенел, заливался голос Алеши. Тонкий, пронзительный, он звучал звонко и чисто, серебряным колокольчиком - он звенит и сейчас в моих ушах!
- О мне не рыдайте, плача, бо ничтоже начинах достойное...
А монахи вторили ему нестройным хором:
- Душе моя, душе моя, восстань!..
Но все слабее вторили и слабее. А пароход оседал в воду и оседал... Ждать дольше было уже опасно. Мы отвалили.
И вот тогда-то на накренившейся палубе и появился пес. Он постоял, посмотрел на нас, потом устало подошел к люку, где все еще звучал голос его Алеши; скорбно, с подвизгом, взлаял и лег на железо.
Пароход погрузился, и в мире словно лопнула струна... Все завороженно смотрели на огромную бурлящую воронку, кто-то из матросов громко икал, а старпом еле слышно бормотал: «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...» - а я тайком оттирал, оттирал с белоснежного рукава жидкий крысиный помет и никак не мог его оттереть... Вот вода сомкнулась.
Ушли в пучину тысяча три брата, послушник Алеша и верный Пушок. Две мили с четвертью до дна в том месте, батюшка.
* * *
- Какое, вы... какое вы чудовище! - прошептал священник, отшатнулся и сдернул с моей головы расшитую шелком епитрахиль.
На груди у него заколыхался серебряный крест. Он прикреплен колечком к жетону. А на жетоне - княжеская корона, зеленое поле и на поле - олень, пронзенный серебряной стрелой.
- Откуда у вас крест, батюшка?
Ничего не говорит он в ответ, закрыл крест ладонью...
- Где вы его взяли?
Закрыл крест ладонью и ловит, ловит ртом воздух... Воздух остро пахнет ладаном и топленым воском.
Евдокимов Николай "Степка, мой сын"
Николай ЕВДОКИМОВ
СТЕПКА, МОЙ СЫН
Это бывает не часто, но с годами все чаще и чаще. Я просыпаюсь на рассвете и иду бродить по пустым московским улицам.Уже светло, но еще горят уставшие за ночь фонари.
На рассвете Москва пахнет росой. Роса лежит на стенах домов, на чугунных оградах парков, на бронзовых плечах памятников.
Птицы – хозяева утренней Москвы. Их голоса звенят, как в лесу. По Красной площади, урча, ходит голубь. На рассвете мостовая перед храмом Василия Блаженного как луг – из-под булыжников торчит облитая росой трава. Днем ее примнут колеса автомобилей, но сейчас по мокрой траве ходит голубь и урчит. Ветер раздувает перья на его крыльях. Ветер несет запах цветов, и в тишине уже слышно жужжание пчел.
А потом выползают на улицы трамваи и троллейбусы. Еще сонные, они идут усталой, мягкой походкой.
Но вот первый солнечный луч вонзился в купол Василия Блаженного, и купол зазвенел тихим и оглушающим звоном и разбудил реку. Река проснулась, она заворочалась, подставляя солнцу свою остывшую за ночь чешую. В воде отразилось далекое облако, вниз упала тяжелая тень моста.
Я иду вдоль реки. Роса высыхает на асфальте, дымятся деревья.
Строится дом. Высоко у края стены стоит парень.
Это Степка, мой сын.
Он кладет кирпич, он осторожно ударяет по нему мастерком. И сразу же в ответ ему со всех сторон несутся другие такие же звуки. Они, как голуби, плывут над рабочей Москвой.
Это Степка, мой сын, разбудил Москву.
Вечером я стою у окна, жду Степку. В доме напротив сидит на подоконнике девушка, грустно глядит вниз, на улицу. Я знаю о ней многое и ничего не знаю. Я знаю, что она любит смеяться, и смех ее так знаком мне, так похож на смех Степкиной матери. Но почему каждый вечер она садится на подоконник и глядит вниз, будто ждет кого-то, а веселое, доброе ее лицо становится таким печальным? Я знаю, она ждет его, но он не идет и не идет…
Она ждет Степку, и я жду. Но я знаю, как сделать, чтобы Степка скорее пришел, а она не знает.
Я закрываю глаза – и вот через мгновение слышу его твердые шаги на пустой улице, слышу, как говорит он своим баском: «Привет!» - это он ей говорит, и вот уже слышу стук ее каблучков по асфальту.
Она бежит к нему и смеется так, как умеет смеяться только она одна. Она и та, другая…
Степке скоро двадцать лет. И мне было двадцать, когда я встретил ту, которую зовут его матерью…
У озера Селигер есть деревня. Там много деревень, но их названия я стараюсь не вспоминать, потому что боюсь забыть одно: Пустошка. Когда мы пришли туда, там стояли только дома: люди ушли далеко к Осташкову, увезя свой скарб. А потом и домов не стало- одни пепелища. Но и за эти пепелища день и ночь шли бои. День… два… месяц… А потом наступило затишье.
Мы вросли в землю, мы стали как духи земли, узнали ее запах и вкус, ее тепло и доброту.
Вокруг блиндажа росла трава, и мы не топтали ее, мы ходили к своему дому по узкой тропинке, боясь поломать живой стебель. Кто научил нас понимать язык трав, я и не помню уже, но все мы умели говорить со стареющими осенними листьями, с кустами, облитыми росой, с цветами, пахнущими огнем.
Блиндаж мы вырыли в лесу за деревней. Но лес скоро поредел, вершины сосен, срезанные снарядами, упали вниз. И трава поредела: утром и вечером каждый день в один и тот же час вражеские минометы били и били терпеливую землю вокруг наших блиндажей. Они вспахали ее. И тем осторожнее обходили мы уцелевшие травинки и обглоданные осколками кусты.
С нами в тесном блиндаже жила мышь: ей тоже дала приют земля. Мышь была отважная, но скромная. Она не воровала хлеб, не залезала в консервы, она научилась сидеть в углу и ждать, как умная собака, подачки. Ночью она любила спать на портянках.
Враг был рядом и был далеко. Узкая полоса земли, на долгие месяцы разделившая наши окопы, была начинена смертью.
В нашем блиндаже жило семь человек. Каждую ночь мы ходили через эту натыканную минами полоску земли к окопам врага. Мы были разведчиками, мы получали на пятьдесят граммов водки больше, чем остальные солдаты, а изредка нам выдавали даже шоколад. Каждую ночь мы ползли к немецким окопам в надежде поймать «языка». Нам бы не надо шоколада и лишних граммов водки, нам бы паршивенький миноискатель, мы бы часто приводили бы «языков»
Но не «языков» мы приводили, мы возвращались, таща на окровавленной шинели одного из наших товарищей. А на следующую ночь снова шли туда.
Если бы у нас был миноискатель!
Но у нас его не было – ведь шел тяжелый сорок первый год. Мы срубили деревце, обтесали его, и получился шест. Этот длинный скользкий шест заменил нам миноискатель. Мы шарили им перед собой, надеясь задеть мину и обмануть смерть.
Шест елозил по земле, он скрежетал, как гусеница танка, он гремел в ночной тишине, как сто тысяч пушек, и враг перепугано бросал в небо желтые ракеты. И тогда не мы, а наши тени достигали его окопов. И вот начинал лаять пулемет, красные точки трассирующих пуль суетливо носились в разные стороны. А мы ползли вперед, закусив окаменевшие губ.
Красные пули летели прямо на нас, а мы ползли…
Мы и мертвые ползли бы вперед, но сержант командовал возвращаться. И снова мы тащили одного из нас на мокрой от крови шинели. Уже не семь нас было в блиндаже, а шесть., но скоро приходил новенький, и снова нас было семь. Мы возвращались, и там, где начиналась нейтральная полоса, возле наших окопов, нас ждала Анка, санинструктор.
У нее были мягкие руки, нежные, как трава. Она знала много добрых слов, и, конечно, это она изобрела те простые, но загадочные своей исцеляющей силой слова; «Потерпи, миленький», - которые потом, как песня, облетели все фронты, все госпитали.
Мне было двадцать лет, и я не знал других женских рук, кроме старых, натруженных рук моей матери. Но удивительно, руки Анки пахли, как руки матери. Она же была девчонка – ей девятнадцать было, но руки ее, знавшие столько страданий и смертй, были старше, были мудрее ее самой.
Время на войне летит стремительно, как пуля, и одновременно тащится медленно, как ротный повар на своей кляче. Мы любили друг друга – я и наш санинструктор.
Любовь наша была короткой и долгой, бесконечной – годы прошли, а мы вместе, всегда вместе.
Мне было двадцать, и поэтому я верил в свою неуязвимость. Гибли мои друзья, но я знал: меня нельзя убить, нельзя потому, что мне двадцать лет, потому, что там, у наших окопов, ждет меня Анка.
И я возвращался к ней. Я не шел в блиндаж спать: мы бродили с Анкой в синей мгле, уходили далеко к Пустошке, где ночь и день трещали, вспыхивая кладбищенскими огоньками, сотни раз перегоревшие пепелища.
Горизонт горел зловещим и прекрасным огнем, а за ним глухо и размеренно ухали, ворчали, мололи человеческие жизни жернова войны. Над головой, где-то выше темных облаков, летели дальнобойные снаряды, мы слышали их шелестящий свист.
Здесь, в Пустошке, при свете пепелищ, я первый раз поцеловал Анку. Щеки Анки, ее губы были как мох, как пух. И я удивился. И Анка поцеловала меня и тоже удивилась чему-то.
Дни шли, недели шли… Все теперь знали о нашей любви и берегли нас, как остатки травы вокруг блиндажа.
Что сделалось с Анкой, я понять не мог. Глаза ее светились даже в темноте, и ребята шутили, что надо на них вешать маскировочные шторы, иначе прилетят на огонь вражеские самолеты. Анка теперь ходила по земле осторожно, будто по камешкам шла через ручей, наклонив голову, словно прислушиваясь к чему-то.
Однажды днем мы забрели с ней в Пустошку. Мы шли держась за руки и молчали, и оба улыбались неизвестно чему, просто от того, что были счастливы.
За Пустошкой упала мина – в неурочный час начали немцы обстрел деревни: что они хотели от этого выгоревшего клочка земли, мне и сейчас непонятно, будто там был невесть какой важности стратегический объект, а не перегоревшие угли.
Мы с Анкой побежали в лесок и легли за холмиком, пережидая обстрел.
Выли мины, вздымая пепел, грязную землю. Анка лежала, опираясь на локти.
- Дай сахару, - сказала она.
Утром нам выдали по куску сахара, свой она давно сгрызла, но знала: я не съел, я берегу для нее.
- А чай с чем будем пить? – спросил я.
- Дай!
Но я не дал ей сахар. Не от жадности: я же берег для нее. И она не обиделась.
А мины выли и выли, они ложились все ближе. Уже было слышно, как жужжат, будто рой пчел, осколки…
- У нас будет сын, - сказала Анка, - слышишь, у нас будет сын! Он будет похож на тебя… А назовем его Степкой…
Все это было так давно…
Я просыпаюсь на рассвете и иду бродить по пустым московским улицам. На рассвете Москва пахнет бензином и бетоном.
Степка строит дом. Скоро стены его запахнут краской. Осталось совсем немного – скоро, скоро построит дом Степка. Дом, пахнущий краской и хлебом…
…Ничего не построит Степка! И ты его не жди, девочка на подоконнике. Он не придет никогда…
- А назовем мы его Степкой… - проговорила Анка, и оба мы услышали жужжание осколка.
- Ой! – печально и удивленно сказала Анка и опустила на траву голову.
- Не шути! – кричал я и, плача, совал в ее холодеющие губы сахар.
Роса блестела на траве. А из травы у самой Анкиной головы торчала черная шляпка гриба.
Тогда я почти не заметил его, этот гриб, но с годами он словно рос и рос в моей памяти. Он разросся до гигантских размеров, готовый прикрыть своей смертоносной шляпкой весь мир, не из доброй земли он берет соки…
Екимов Борис «Ночь исцеления»
Борис Екимов «Ночь исцеления»
Внук приехал и убежал с ребятами на лыжах кататься. А баба Дуня, разом оживев, резво суетилась в доме: варила щи, пирожки затевала, доставала варенья да компоты и поглядывала в окошко, не бежит ли Гриша.
К обеду внук заявился, поел, как подмел, и снова умчался, теперь уже в лог, с коньками. И снова баба Дуня осталась одна. Но то было не одиночество. Лежала на диване рубашка внука, книжки его – на столе, сумка брошена у порога – все не на месте, вразлад. И живым духом веяло в доме. Сын и дочь свили гнездо в городе и наезжали редко – хорошо, коли раз в год. Баба Дуня у них гостила не чаще и обыденкою вечером возвращалась к дому. С одной стороны, за хату боялась: какое ни есть, а хозяйство, с другой…
Вторая причина была поважнее: с некоторых пор спала баба Дуня тревожно, разговаривала, а то и кричала во сне. В своей хате, дома, шуми хоть на весь белый свет. Кто услышит! А вот в гостях… Только улягутся и заснут, как забормочет баба Дуня, в голос заговорит, кого-то убеждает, просит так явственно в ночной тишине, а потом закричит: «Люди добрые! Спасите!!» Конечно, все просыпаются – и к бабе Дуне. А это сон у нее такой тревожный. Поговорят, поуспокаивают, валерьянки дадут и разойдутся. А через час то же самое: «Простите Христа ради! Простите!!» И снова квартира дыбом. Конечно, все понимали, что виновата старость и несладкая жизнь, какую баба Дуня провела. С войной и голодом. Понимать понимали, но от этого было не легче.
Приезжала баба Дуня – и взрослые, считай, ночь напролет не спали. Хорошего мало. Водили ее к врачам. Те прописывали лекарства. Ничего не помогало. И стала баба Дуня ездить к детям все реже и реже, а потом лишь обыденкою: протрясется два часа в автобусе, спросит про здоровье и назад. И к ней, в родительский дом, приезжали лишь в отпуск, по лету. Но вот внучек Гриша, в годы войдя, стал ездить чаще: на зимние каникулы, на Октябрьские праздники да Майские.
Он зимой и летом рыбачил в Дону, грибы собирал, катался на коньках да лыжах, дружил с уличными ребятами,– словом, не скучал. Баба Дуня радовалась.
И нынче с Гришиным приездом она про хвори забыла. День летел невидя, в суете и заботах. Не успела оглянуться, а уж синело за окном, подступал вечер. Гриша заявился по-светлому. Загромыхал на крылечке,
в хату влетел краснощекий, с морозным духом и с порога заявил:
– Завтра на рыбалку! Берш за мостом берется. Дуром!
– Это хорошо,– одобрила баба Дуня. – Ушицей посладимся.
Гриша поужинал и сел разбирать снасти: мормышки да блесны проверял, на полдома разложив свое богатство. А баба Дуня устроилась на диване и глядела на внука, расспрашивая его о том о сем. Внук все малым был да малым, а в последние год-два вдруг вытянулся, и баба Дуня с трудом признавала в этом длинноногом, большеруком подростке с черным пушком на губе косолапого Гришатку.
– Бабаня, я говорю, и можешь быть уверена. Будет уха и жарёха. Фирма веников не вяжет. Учти.
– С вениками правда плохо,– согласилась баба Дуня. – До трех рублей на базаре.
Гриша рассмеялся:
– Я про рыбу.
– Про рыбу… У меня дядя рыбалил. Дядя Авдей. Мы на Картулях жили. Меня оттуда замуж брали. Так там рыбы…
Гриша сидел на полу, среди блесен и лесок, длинные ноги – через всю комнатушку, от кровати до дивана. Он слушал, а потом заключил:
– Ничего, и мы завтра наловим: на уху и жарёху.
За окном солнце давно закатилось. Долго розовело небо. И уже светила луна половинкою, но так хорошо, ясно. Укладывались спать. Баба Дуня, совестясь, сказала:
– Ночью, може, я шуметь буду. Так ты разбуди.
Гриша отмахивался:
– Я, бабаня, ничегоне слышу. Сплю мертвым сном.
– Ну и слава Богу. А то вот я шумлю, дура старая. Ничего поделать не могу.
Заснули быстро, и баба Дуня, и внук.
Но среди ночи Гриша проснулся от крика:
– Помогите! Помогите, люди добрые!
Спросонья, во тьме он ничего не понял, и страх обуял его.
– Люди добрые! Карточки потеряла! Карточки в синем платочке завязаны! Может, кто поднял? – И смолкла.
Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня. Во тьме, в тишине так ясно слышалось тяжелое бабушкино дыхание. Она словно продыхивалась, сил набиралась. И снова запричитала, пока не в голос:
– Карточки… Где карточки… В синем платочке… Люди добрые. Ребятишки… Петяня, Шурик, Таечка… Домой приду, они исть попросят… Хлебец дай, мамушка. А мамушка ихняя… – Баба Дуня запнулась, словно ошеломленная, и закричала: – Люди добрые! Не дайте помереть! Петяня! Шура! Таечка! – Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно.
Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошел в бабушкину комнату.
– Бабаня! Бабаня! – позвал он. – Проснись…
Она проснулась, заворочалась:
– Гриша, ты? Разбудила тебя. Прости, Христа ради.
– Ты, бабаня, не на тот бок легла, на сердце.
– На сердце, на сердце… – послушно согласилась баба Дуня.
– Нельзя на сердце. Ты на правый ложись.
– Лягу, лягу…
Она чувствовала себя такой виноватой. Гриша вернулся к себе, лег в постель. Баба Дуня ворочалась, вздыхала. Не сразу отступало то, что пришло во сне. Внук тоже не спал, лежал, угреваясь. Про карточки он знал. На них давали хлеб. Давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка,– это отец.
В жидкой тьме лунного полусвета темнели шкаф и этажерка. Стало думаться об утре, о рыбалке, и уже в полудреме Гриша услыхал бабушкино бормотание:
– Зима находит… Желудков запастись… Ребятишкам, детишкам… – бормотала баба Дуня. – Хлебца не хватает, и желудками обойдемся. Не отымайте, Христа ради… Не отымайте! – закричала она. – Хучь мешки отдайте! Мешки! – И рыдания оборвали крик.
Гриша вскочил с постели.
– Бабаня! Бабаня! – крикнул он и свет зажег в кухне. – Бабаня, проснись!
Баба Дуня проснулась. Гриша наклонился над ней. В свете электрической лампочки засияли на бабушкином лице слезы.
– Бабаня… – охнул Гриша. – Ты вправду плачешь? Так ведь это все сон.
– Плачу, дура старая. Во сне, во сне…
– Но слезы-то зачем настоящие? Ведь сон – неправда. Ты вот проснулась, и все.
– Да это сейчас проснулась. А там…
– А чего тебеснилось?
– Снилось? Да нехорошее. Будто за желудями я ходила за Дон, на горы. Набрала в два мешка. А лесники на пароме отнимают. Вроде не положено. И мешки не отдают.
– А зачем тебе желуди?
– Кормиться. Мы их толкли, мучки чуток добавляли и чуреки пекли, ели.
– Бабаня, тебе это только снится или это было? – спросил Гриша.
– Снится,– ответила баба Дуня. – Снится – и было. Не приведи, Господи. Не приведи… Ну, ложись иди ложись…
Гриша ушел, и крепкий сон сморил его или баба Дуня больше не кричала, но до позднего утра он ничего не слышал. Утром ушел на рыбалку и, как обещал, поймал пять хороших бершей, на уху и жарёху.
За обедом баба Дуня горевала:
– Не даю тебе спать… До двух раз булгачила. Старость.
– Бабаня, в голову не бери,– успокаивал ее Гриша. – Высплюсь, какие мои годы…
Он пообедал и сразу стал собираться. А когда надел лыжный костюм, то стал еще выше. И красив он был, в лыжной шапочке, такое милое лицо, мальчишечье, смуглое, с румянцем. Баба Дуня рядом с ним казалась совсем старой: согбенное, оплывающее тело, седая голова тряслась, и в глазах уже виделось что-то нездешнее. Гриша мельком, но явственно вспомнил лицо ее в полутьме, в слезах. Воспоминание резануло по сердцу. Он поспешил уйти.
Во дворе ждали друзья. Рядом лежала степь. Чуть поодаль зеленели посадки сосны. Так хорошо было бежать там на лыжах. Смолистый дух проникал в кровь живительным холодком и, казалось, возносил над лыжней послушное тело. И легко было мчаться, словно парить. За соснами высились песчаные бугры – кучугуры, поросшие красноталом. Они шли холмистой грядой до самого Дона. Туда, к высоким задонским холмам, тоже заснеженным, тянуло. Манило к крутизне, когда наждаковый ветер высекает из глаз слезу, а ты летишь, чуть присев, узкими щелочками глаз цепко ловишь впереди каждый бугорок и впадинку, чтобы встретить их, и тело твое цепенеет в тряском лете. И наконец пулей вылетаешь на гладкую скатерть заснеженной реки и, расслабившись, выдохнув весь испуг, катишь и катишь спокойно, до середины Дона.
Этой ночью Гриша не слыхал бабы Дуниных криков, хотя утром по лицу ее понял, что она неспокойно спала.
– Не будила тебя? Ну и слава Богу…
Прошел еще день и еще. А потом как-то к вечеру он ходил на почту, в город звонить. В разговоре мать спросила:
– Спать тебе баба Дуня дает? – И посоветовала: – Она лишь начнет с вечера говорить, а ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали.
По пути домой стало думаться о бабушке. Сейчас, со стороны, она казалась такой слабой и одинокой. А тут еще эти ночи в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли. А для бабушки – нет. И с какой, верно, тягостью ждет она ночи. Все люди прожили горькое и забыли. А у нее оно снова и снова. Но как помочь?
Свечерело. Солнце скрылось за прибрежными донскими холмами. Розовая кайма лежала за Доном, а по ней – редкий далекий лес узорчатой чернью. В поселке было тихо, лишь малые детишки смеялись, катаясь на салазках. Про бабушку думать было больно. Как помочь ей? Как мать советовала? Говорит, помогает. Вполне может и быть. Это ведь психика. Приказать, крикнуть – и перестанет. Гриша неторопливо шел и шел, раздумывая, и в душе его что-то теплело и таяло, что-то жгло и жгло. Весь вечер за ужином, а потом за книгой, у телевизора Гриша нет-нет да и вспоминал о прошедшем. Вспоминал и глядел на бабушку, думал: «Лишь бы не заснуть».
За ужином он пил крепкий чай, чтобы не сморило. Выпил чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи. И пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лег, а сел в постели, дожидаясь своего часа. За окном светила луна. Снег белел. Чернели сараи. Баба Дуня скоро заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда наконец из комнаты бабушки донеслось еще невнятное бормотание, он поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал
возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь.
– Потеряла… Нет… Нету карточек… – бормотала баба Дуня еще негромко. – Карточки… Где… Карточки… – И слезы, слезы подкатывали.
Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял – топнуть. Чтобы уж наверняка.
– Хлебные… карточки… – в тяжкой муке, со слезами выговаривала баба Дуня.
Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:
– Вот ваши карточки, бабаня… В синем платочке, да? ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронили. А я поднял. Вот видите, возьмите,– настойчиво повторял он. – Все целые, берите…
Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не сразу пришли слова. Но пришли:
– Мои, мои… Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я обронила. Спаси Христос, добрый человек…
По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.
– Не надо плакать,– громко сказал он. – Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать,– говорил он, словно приказывал. – И спите спокойно. Спите.
Баба Дуня смолкла.
Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его бил озноб. Какой-то холод пронизывал до костей. И нельзя было согреться. Печка была еще тепла. Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то еще… Он не спал, но находился в странном забытьи, словно в годах далеких, иных, и в жизни чужой, и виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. И он плакал, вытирая слезы кулаком. Но как только баба Дуня заговорила, он забыл обо всем. Ясной стала голова, и ушла из тела дрожь. К бабе Дуне он подошел вовремя.
– Документ есть, есть документ… вот он… – дрожащим голосом говорила она. – К мужу в госпиталь пробираюсь. А ночь на дворе. Пустите переночевать.
Гриша словно увидел темную улицу и женщину во тьме и распахнул ей навстречу дверь.
– Конечно, пустим. Проходите, пожалуйста. Проходите. Не нужен ваш документ.
– Документ есть! – выкрикнула баба Дуня.
Гриша понял, что надо брать документ.
– Хорошо, давайте. Так… Ясно. Очень хороший документ. Правильный. С фотокарточкой, с печатью.
– Правильный… – облегченно вздохнула баба Дуня.
– Все сходится. Проходите.
– Мне бы на полу. Лишь до утра. Переждать.
– Никакого пола. Вот кровать. Спите спокойно. Спите. Спите. На бочок и спите.
Баба Дуня послушно повернулась на правый бок, положила под голову ладошку и заснула. Теперь уже до утра. Гриша посидел над ней, поднялся, потушил в кухне свет. Кособокая луна, опускаясь, глядела в окно. Белел снег, посверкивая живыми искрами. Гриша лег в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке и как они вместе… Но вдруг обожгло его ясной мыслью: нельзя говорить. Он отчетливо понял – ни слова, ни даже намека. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и молчать. И придет исцеление.
1986
Екимов Борис «Фетисыч»
Время - к полудню, а на дворе - ни свет, ни тьма. В окна глядит си-за наволочь поздней ненастной осени. Целый день светят в домах по хутору электрические огни, разгоняя долгие утренние да вечерние сумерки.
Девятилетний мальчонка Яков, с серьезным прозвищем Фетисыч, обычно уроки готовил в дальней комнате, там, где и спал. Но нынче, скучая, пришел он на кухню. Стол был свободен. Возле него отчим Фетисыча, Федор, маялся с похмелья: то чай заваривал, то наводил в большую кружку иряну - отчаянно кислого "откидного" молока с водой. Тут же топала на крепких ножонках младшая сестра Фетисыча - кудрява Светланка.
Мальчик пришел с тетрадью и задачником, устроился за столом возле отчима.
Места не хватило? - спросил его Федор.
Я вам не буду мешать, - пообещал Фетисыч. - Вроде меня и нет. А за тем столом мне низко. Я наклоняюсь, и осанка у мен портится.
Чего-чего? - переспросил Федор.
Осанка. Это учительница говорит. Можешь спросить, если не веришь.
Федор лишь хмыкнул. К причудам пасынка он привык.
Вначале сидели молча. Фетисыч строчил свою арифметику. Федор пил чай и, скучая, глядел в окно, где сеялся мелкий дождь на серые хуторские дома, на раскисшую землю. Сидели молча. Малая Светланка таскала из ящика за игрушкой игрушку: пластмассовую собаку, мячик, куклу, крокодила - и вручала отцу с коротким: "На!" Федор послушно брал и складывал это добро на столе. Горка росла.
Фетисыч скоро от уроков отвлекся.
Хочу тебя обрадовать, - для начала сказал он отчиму. - Ты же вчера был пьяный, не знаешь. А я пятерки получил по русскому и по арифметике. По русскому - одну, а по арифметике - две.
Федор лишь вздохнул.
Ты не думай, это непросто, - продолжал Фетисыч. - Одну пятерку по арифметике - за домашнее задание, а другую - по новой теме. Я ее понял, к доске вышел и решил.
Заткнись, - остановил его Федор.
Фетисыч смолк. Снова повисла тишина. Светланка, мягко топая, таскала и таскала игрушки отцу. Горой они на столе лежали. Потом, заглянув в ящик, сказала: "Все" - и развела руками. И теперь пошло наоборот: подходила она к столу, говорила отцу: "Дай". Федор молча вручал ей игрушку, которую дочь несла к опустевшему ящику, и возвращалась к столу с требовательным: "Дай!"
Они были похожи, родные дочь и отец: кудрявые волосы - шапкой, черты лица мелковатые, но приятные. Отца старила ранняя седина, мятые подглазья, морщины - пил он в последнее время довольно крепко и быстро сдавал. А малая Светланка, как и положено, была еще ангелочком в темных кудрях, с нежной кожей лица, с легким румянцем - красивая девочка. Мальчишка же, Яков, что по характеру, что по стати был для Федора кровью чужой. Фетисычем его звали за разговорчивость, за стариковскую рассудительность, которая приходилась то кстати, а то и совсем наоборот. Как теперь, например, когда Федору с похмелья и без разговоров свет был не мил. Фетисыч понимал это, даже сочувствовал. Углядев, как отчим косит глазами на жестяную коробку с табаком-самосадом и морщится, он сказал:
Хочу тебе предложить. Ты вот болеешь сейчас с похмелья. А ты наберись силы воли и брось сразу курить. Помучаешься, зато потом тебе будет хорошо.
Это ты сам придумал? - спросил Федор.
Конечно.
Значит, дурак.
Пришла с работы, с коровника, мать Фетисыча - Анна, женщина молодая, но полная, с одышкой. Через порог шагнув, она присела на табурет, укорила:
Сидите? Дремлете? А мамка ваша - вся в мыле. Опять на себе тягали солому и силос. Вся техника стоит.
А бригадир чего же? - живея, спросил Федор.
От него проку... Ходит - роги в землю, ни на кого не глядит.
А Мишки Холомина "Беларусь"? Он - гожий.
Мишкин трактор теперь один на весь хутор. За ним, как за стельной коровой, глядят. Говорят, на случай. Кто заболеет... Или за хлебом. Тетка Маня правду гутарит: надо быков заводить. Бык - скотина беспогрешная. Ни солярки ему не надо, ни запчастей. На соломке попрет.
Анна пришла в себя скоро: недолго посидела, прислонившись к стене, пожаловалась и, поднимаясь, спросила строго:
А даже из печки не выгребли? Меня ждете? И угля нет?
Вячеслав Дегтев
Крест(сборник рассказов)
© Copyright Вячеслав Дегтев
Вячеслав Дегтев. Крест. Книга рассказов. М., Андреевский флаг, 2003,
448 с. ISBN 5-9553-0021-Х
Последний парад
"Он сладостно обонял воню вражеской крови.
Видя гибель ворогов, пел песни, смеялся и хохотал…"
(Из летописи)
В тех черных, ледяных, продуваемых насквозь заснеженных горах погибала шестая сводная рота. В снежную, глухую, высокосную, двадцать девятого февраля, ночь там во всю бушевала кровавая вьюга. И рота, как потом в песне воспоется, – уходила на небо. Строем. Один за одним… Уходили молодые, с тонкими шеями, безусые мальчишки-солдаты, шли они не на любовные свидания, а на встречу-рандеву с тем, что называется – Вечность.
Ребята уходили, а салага-первогодок Егорка Щегол пока еще оставался. Вообще-то фамилия его была – Стрижов; Щеглом прозвали в роте – за незлобивость, безотказность, вострый носик и щеглиную щуплость. Он был единственным у матери сыном. На те копейки, которые она получала на кордной фабрике, не особенно-то разжиреешь. Вот и был у него постоянно "дефицит живого веса". Отец уехал в Тюмень на заработки, да так и сгинул… Егоркина мать, ни на кого не надеясь, тянула лямку из последних сил, отмазать сына от солдатчины даже не пыталась, тем более, что он сам захотел служить. Иначе, говорил, уважать себя не будет.
Кто хотя бы неделю был в армии, знает, что в первую роту отбираются лучшие солдаты, ставится командиром самый сильный (или самый блатной) офицер. Во вторую – похуже, и командир уже без блата и связей; и так далее, по убывающей. Шестая рота в той части была на положении изгоя. Как говорится, ниже асфальта на двадцать сантиметров, – вровень с хозвзводом. Дефективные очкарики и прочие "шизы", "недомерки" и "задохлики". По строевой последние. (Комбат невесело шутил: хоть сено-солому к рукавам привязывай…) По стрельбе – первые с хвоста. Для которых вечно то патронов не хватало, то мишеней.
Перед отправкой в "командировку" их "усилят" всяким разношерстным "контингентом" из остальных рот, перебросят к ним закоренелых сачков, могущих спать стоя и даже в строю, законченных разгильдяев и "шлангов", от которых ротные мечтали избавиться, чтоб не портили "показатели" – после чего "пополненную" этак роту сводят в баню, оденут в новое обмундирование, и в полковой церкви священник отец Олег скопом окрестит некрещеных (даже двух татар прихватит), помашет над строем, ядрено пахнущим складским духом, блестящим, дымящимся кадилом, обрызгает каждого святой водою, – с тем и отправят солдат в Чечню.
И уже в последние часы, перед самой отправкой, к роте прикомандируют их комбата, объявив, что это последнее его боевое задание – после "командировки" пусть готовится в запас, на заслуженный отдых. Комбат был бесперспективный перестарок-подполковник, с каким-то "неуставным", богемно-ветхозаветным именем, уж во всяком случае совершенно не армейским -Марк. С таким имечком сподручно черные квадраты малевать, мюзиклы-буффонады ставить, шутил комполка, молодой майор, из ранних, у которого имя было "правильное", – Святослав, и который моложе комбата был лет на десять, недурно также стишки кропать, но только не в армии служить, карьеру не сделаешь, будь ты хоть самим Жуковым. Молодой комполка знал в карьерных делах толк. Особенно была докой по этой части смазливая его жена… Вот и пришлось вчерашнему комбату командовать перед дембелем ротой. Но приказы в армии не обсуждаются…
А потом кто-то где-то договаривался – один был при лампасах, другой в каракулевой папахе, – они договаривались, что одни выпустят других через перевал в Грузию, а те постреляют для блезиру, чтоб была видимость грандиозной битвы, и джигитам, мол, пришлось прорываться с боем, потому и потеряли такое огромное количество импортного снаряжения, однако удержать их все равно не было никакой возможности, хоть солдаты рус… российские и проявляли чудеса, как принято говорить, героизма… Но вы-то уж солдатиков не очень много валите, вы и так оборону легко прорвете, это ж наши дети, дети трудового народа, – просил на прощанье тот, что в лампасах, вытирая алые губы от осетрового жира. Немного, совсем немного повоюем, как же без этого, лицо потеряешь, человек пять-десять, ну, пятнадцать зацепим слегка, каких-нибудь бестолковых разгильдяев-губошлепов, они мне еще в Советской Армии надоели, – человеческий мусор! – отозвался тот, который в папахе. Но только дети это не наши, это ваши… ваши ублюдки! Ну, хорошо, хорошо, не будем ссориться! – примиряюще бормотал в лампасах. Он опять сберег свои нервы, но не сберег свою честь. Впрочем, у него об этом весьма приблизительное было представление, он так и остался колхозным подпаском, которому удалось выбиться, пролезть в генералы…
Милые, наивные губошлепы! Воины-защитники с цыплячьими шеями. Не хватило у ваших родителей ни денег, ни связей, чтоб откупить-отмазать вас от солдатчины, не хватило у вас "ума" и изворотливости, подлости и цинизма, чтоб правдоподобно "косануть" от этой гибельной "командировки", не хватило совести увильнуть в последний момент под благовидным предлогом от роковой той погрузки в вертолеты, и вот – погнали вас, "верных присяге", кое-как вооруженных, с сухпаем из буханки хлеба да банки бланшированной сельди, погнали как ваших мобилизованных дедов-прадедов гнали в свое время – кого против Колчака с Деникиным, а кого против Фрунзе с Уборевичем, в лапотках и с древними трофейными "арисаками" да "манлихерами", – так и вас бросили расхлебывать кровавую кашу, сильно припахивающую грозненской нефтью (правда, перед самой отправкой переодели в новое, чистое обмундирование), в очередной раз в своих грязных играх расплатились вашими ничего не стоящими для них жизнями, вашей молодой кровушкой, которая для них – сущая водица. Увы, так всегда было…
И вот двадцать девятого февраля вы безропотно, с выражением покорной жертвенности, весьма характерной для нашего простого человека, как и предки ваши когда-то (тем хоть какую-никакую красивую сказочку пели сладкоголосые политруки-комиссары про всеобщее благо и счастье), молча и покорно, без шуток и смеха, погрузились в "вертушки", долетели до ущелья, которое вам приказывалось запереть, десантировались в рыхлый снег на старый аэродром, где чеченцы принимали когда-то фашистские самолеты, заняли на продуваемом перевале оборону, окопались в снегу, и вскоре увидели в темноте боевиков, которые шли открыто по твердому насту, даже огоньков сигаретных не пряча, -все это зверье вылило через перевал в Грузию, туда, где каждый сейчас или князь, или вор в законе; нет, точнее будет: если не князь, значит – вор.
Вячеслав Дегтев
Крест(сборник рассказов)
© Copyright Вячеслав Дегтев
Вячеслав Дегтев. Крест. Книга рассказов. М., Андреевский флаг, 2003,
448 с. ISBN 5-9553-0021-Х
Последний парад
"Он сладостно обонял воню вражеской крови.
Видя гибель ворогов, пел песни, смеялся и хохотал…"
(Из летописи)
В тех черных, ледяных, продуваемых насквозь заснеженных горах погибала шестая сводная рота. В снежную, глухую, высокосную, двадцать девятого февраля, ночь там во всю бушевала кровавая вьюга. И рота, как потом в песне воспоется, – уходила на небо. Строем. Один за одним… Уходили молодые, с тонкими шеями, безусые мальчишки-солдаты, шли они не на любовные свидания, а на встречу-рандеву с тем, что называется – Вечность.
Ребята уходили, а салага-первогодок Егорка Щегол пока еще оставался. Вообще-то фамилия его была – Стрижов; Щеглом прозвали в роте – за незлобивость, безотказность, вострый носик и щеглиную щуплость. Он был единственным у матери сыном. На те копейки, которые она получала на кордной фабрике, не особенно-то разжиреешь. Вот и был у него постоянно "дефицит живого веса". Отец уехал в Тюмень на заработки, да так и сгинул… Егоркина мать, ни на кого не надеясь, тянула лямку из последних сил, отмазать сына от солдатчины даже не пыталась, тем более, что он сам захотел служить. Иначе, говорил, уважать себя не будет.
Кто хотя бы неделю был в армии, знает, что в первую роту отбираются лучшие солдаты, ставится командиром самый сильный (или самый блатной) офицер. Во вторую – похуже, и командир уже без блата и связей; и так далее, по убывающей. Шестая рота в той части была на положении изгоя. Как говорится, ниже асфальта на двадцать сантиметров, – вровень с хозвзводом. Дефективные очкарики и прочие "шизы", "недомерки" и "задохлики". По строевой последние. (Комбат невесело шутил: хоть сено-солому к рукавам привязывай…) По стрельбе – первые с хвоста. Для которых вечно то патронов не хватало, то мишеней.
Перед отправкой в "командировку" их "усилят" всяким разношерстным "контингентом" из остальных рот, перебросят к ним закоренелых сачков, могущих спать стоя и даже в строю, законченных разгильдяев и "шлангов", от которых ротные мечтали избавиться, чтоб не портили "показатели" – после чего "пополненную" этак роту сводят в баню, оденут в новое обмундирование, и в полковой церкви священник отец Олег скопом окрестит некрещеных (даже двух татар прихватит), помашет над строем, ядрено пахнущим складским духом, блестящим, дымящимся кадилом, обрызгает каждого святой водою, – с тем и отправят солдат в Чечню.
И уже в последние часы, перед самой отправкой, к роте прикомандируют их комбата, объявив, что это последнее его боевое задание – после "командировки" пусть готовится в запас, на заслуженный отдых. Комбат был бесперспективный перестарок-подполковник, с каким-то "неуставным", богемно-ветхозаветным именем, уж во всяком случае совершенно не армейским -Марк. С таким имечком сподручно черные квадраты малевать, мюзиклы-буффонады ставить, шутил комполка, молодой майор, из ранних, у которого имя было "правильное", – Святослав, и который моложе комбата был лет на десять, недурно также стишки кропать, но только не в армии служить, карьеру не сделаешь, будь ты хоть самим Жуковым. Молодой комполка знал в карьерных делах толк. Особенно была докой по этой части смазливая его жена… Вот и пришлось вчерашнему комбату командовать перед дембелем ротой. Но приказы в армии не обсуждаются…
А потом кто-то где-то договаривался – один был при лампасах, другой в каракулевой папахе, – они договаривались, что одни выпустят других через перевал в Грузию, а те постреляют для блезиру, чтоб была видимость грандиозной битвы, и джигитам, мол, пришлось прорываться с боем, потому и потеряли такое огромное количество импортного снаряжения, однако удержать их все равно не было никакой возможности, хоть солдаты рус… российские и проявляли чудеса, как принято говорить, героизма… Но вы-то уж солдатиков не очень много валите, вы и так оборону легко прорвете, это ж наши дети, дети трудового народа, – просил на прощанье тот, что в лампасах, вытирая алые губы от осетрового жира. Немного, совсем немного повоюем, как же без этого, лицо потеряешь, человек пять-десять, ну, пятнадцать зацепим слегка, каких-нибудь бестолковых разгильдяев-губошлепов, они мне еще в Советской Армии надоели, – человеческий мусор! – отозвался тот, который в папахе. Но только дети это не наши, это ваши… ваши ублюдки! Ну, хорошо, хорошо, не будем ссориться! – примиряюще бормотал в лампасах. Он опять сберег свои нервы, но не сберег свою честь. Впрочем, у него об этом весьма приблизительное было представление, он так и остался колхозным подпаском, которому удалось выбиться, пролезть в генералы…
Милые, наивные губошлепы! Воины-защитники с цыплячьими шеями. Не хватило у ваших родителей ни денег, ни связей, чтоб откупить-отмазать вас от солдатчины, не хватило у вас "ума" и изворотливости, подлости и цинизма, чтоб правдоподобно "косануть" от этой гибельной "командировки", не хватило совести увильнуть в последний момент под благовидным предлогом от роковой той погрузки в вертолеты, и вот – погнали вас, "верных присяге", кое-как вооруженных, с сухпаем из буханки хлеба да банки бланшированной сельди, погнали как ваших мобилизованных дедов-прадедов гнали в свое время – кого против Колчака с Деникиным, а кого против Фрунзе с Уборевичем, в лапотках и с древними трофейными "арисаками" да "манлихерами", – так и вас бросили расхлебывать кровавую кашу, сильно припахивающую грозненской нефтью (правда, перед самой отправкой переодели в новое, чистое обмундирование), в очередной раз в своих грязных играх расплатились вашими ничего не стоящими для них жизнями, вашей молодой кровушкой, которая для них – сущая водица. Увы, так всегда было…
И вот двадцать девятого февраля вы безропотно, с выражением покорной жертвенности, весьма характерной для нашего простого человека, как и предки ваши когда-то (тем хоть какую-никакую красивую сказочку пели сладкоголосые политруки-комиссары про всеобщее благо и счастье), молча и покорно, без шуток и смеха, погрузились в "вертушки", долетели до ущелья, которое вам приказывалось запереть, десантировались в рыхлый снег на старый аэродром, где чеченцы принимали когда-то фашистские самолеты, заняли на продуваемом перевале оборону, окопались в снегу, и вскоре увидели в темноте боевиков, которые шли открыто по твердому насту, даже огоньков сигаретных не пряча, -все это зверье вылило через перевал в Грузию, туда, где каждый сейчас или князь, или вор в законе; нет, точнее будет: если не князь, значит – вор.
Ваш комбат, несмотря на богемно-ветхозаветное имечко, твердо помнил старую заповедь: подвергаясь нападению, бей первым! По его команде вы ударили, и ударили дружно, и ошеломили боевиков, рассеяв их и смешав ряды, но вскоре они ответили, и ответили крепко, и вы сразу же почувствовали звериную их, волчью хватку, и получили первые боевые уроки, и почуяли на морозе, как пахнет братская кровушка, и, встретившись с первыми потерями, самой шкурой безошибочно распознали древний и всемогущий язык матери-смерти, понятный всему живому на земле, и поначалу лишь удивились, что все так просто, вот только что ребята были живы, курили, кашляли, дышали на озябшие руки, шутили: "Христос акбар? – Воистину акбар!" – и вот уже они холодные, и уже окоченели, и ничего, ни-че-го, ровным счетом ничего не изменилось в мире, который не содрогнулся, не перевернулся и не рассыпался прахом -холодный, ледяной мир просто не заметил утраты. Может, в самом деле, вселенная и не подозревает о нашем существовании, а смерть – это всего лишь иная, неизвестная нам форма жизни? И не один вспомнил в эти минуты о Боге…
Однако кровь ожесточила вас, и вот вы уже без содрогания валите боевиков, хоть и кричат они с излишней страстью "аллах акбар!" – но всякая страсть охлаждается кровью, – валите, как валили когда-то их бородатых, по-звериному смердящих предков наши пращуры, деды-прадеды, лихие атаманы-казаченьки, солдатушки славны, бравы ребятушки, и умираете так же стойко, как может умирать только терпеливый русский воин, который завсегда на бой, на пир и на рану крепок был. И вот…
И вот – рота уходит на небо. Строем. Один за одним…
Все мы знаем, что рано или поздно умрем, но все равно не верим в собственную кончину, а потому всякая религия есть форма подготовки к смерти, а путь воина – есть путь преодоления страха смерти. Егорка был еще очень молод, его еще не ужасала та бездна, та вечная тьма, куда всем нам предстоит уйти безвозвратно, уйти и никогда уж больше не вернуться. Он убедил себя, что ТАМ души солдат встречает святой Георгий-Победоносец, покровитель русского воинства, – в окопах не бывает атеистов, – и заставил себя поверить, что в ужасной этой мясорубке есть некий скрытый смысл и есть какое-то высшее предназначение. Что за ним, за его спиной стоит родина, мать, друзья, любимая девушка Вика, которая поклялась дождаться… А как еще вынести все это безумие? Он не сообщал ни о тяготах службы, ни о плохой кормежке и вечно сырых, протекающих сапогах, ни о засилье всяческих инородческих "землячеств" и дедовщины – что попусту огорчать? – это его чисто мужские проблемы. Денег просил не посылать, все равно отберут, писал, что все хорошо, успешно осваивает, постигает военное искусство, и это было правдой, ибо он считал, что все эти трудности и тяготы – и есть искусство выживания. Если ты не способен решить такие простые проблемы, как защита собственного достоинства, то где уж там думать о защите достоинства страны…